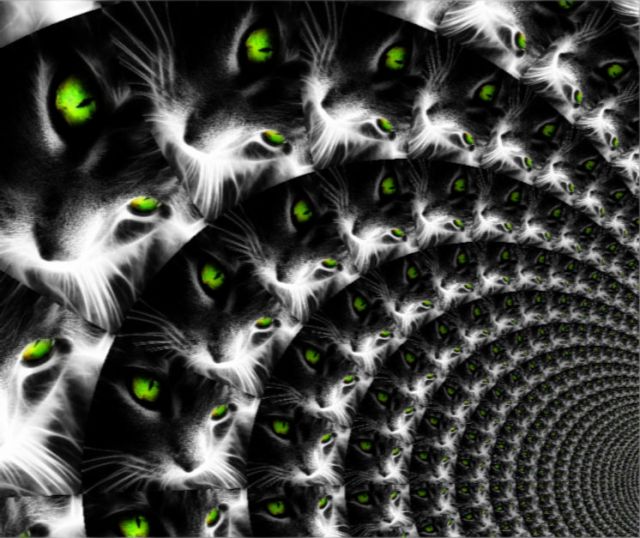Портрет неизвестной (новелла). А.Герзон
Автор: Александр Абрамович Герзон
Источник: gorod21veka.ru

- А сейчас, -продолжает экскурсовод, коротко подстриженная девушка в синих джинсах, — мы с вами видим портрет неизвестной. Эту картину, как и многие другие, фашисты собирались при отступлении вывезти из нашего города.
* * *
Георгий Хрисанфович появился здесь шесть лет назад.
Человек с чужим паспортом, с чужой биографией, в которую сам начинал уже как бы верить, он после ужаснувшей его пролетарской революции нигде не жил более года. Менял города, профессии. Был слесарем-сантехником, садовником, дворником, бухгалтером, преподавателем немецкого языка, исколесил и восток, и запад, и юг страны Советов.
Прожил зиму и на севере.
Боялся обзаводиться семьей.
Давыдов (именно такова была его подлинная фамилия, а вовсе не та, что значилась в паспорте) являлся одним из тех растерявшихся, кто не сумел ни понять, ни принять происшедшее в России в октябре семнадцатого года. Не успев вовремя эмигрировать, он жил в постоянном страхе: репрессивность и беспощадность режима стали кошмаром, который не прекращался даже во сне.
Если бы кто-то узнал и донес о его дворянском происхождении и его офицерском чине, о том, что он окончил университет в Германии, вряд ли можно было бы рассчитывать на снисхождение.
Однако в этом не очень крупном, не очень зеленом, но довольно пыльном городке он задержался. Причиной тому было посещение местного краеведческого музея.
Его заинтересовало необычное богатство двух не очень больших залов, отведенных произведениям изобразительного искусства. Удивило присутствие в глухой провинции полотен Каналетто и Ротари, Левицкого и Врубеля, гравюр Харунобу и изделий Фаберже.
Вдруг он замер, почувствовал, что пол вот-вот уйдет из-под его ног: он стоял перед портретом прапрабабки своей, столбовой дворянки Софьи Давыдовой.
«Неизвестный художник XVIII века. Портрет неизвестной», — прочитал Георгий Хрисанфович.
Глаза ожгло навернувшейся слезой: его счастливое детство в родной Давыдовке было связано с этим произведением волшебной кисти Федора Рокотова.
Мальчика завораживали дивные, такие неповторимо рокотовские, миндалевидные глаза красавицы: подолгу простаивал он перед портретом в молчаливом общении с их всепонимающим вечным взглядом.
Ему тогда казалось, что и он понимает нечто словами не выразимое, струящееся прямо в душу его, излучаемое и взглядом этим, и таинственной улыбкой женщины. Он жадно, никогда не пресыщаясь, впитывал это всепрощающее всепонимание, это чудо, пронесенное творением художника через долгие годы.
Колдовская затуманенность приглушенного мягкого колорита картины вновь и вновь приманивала Жоржа, уже ставшего гимназистом_старшеклассником.
А позднее, когда он покинул Россию надолго, чтобы получить высшее гуманитарное образование в европейских столицах, нередко вспоминался ему портрет прекрасной женщины, ставший необычайно близким его душе.
В тот день вновь стоял он перед ним в незнакомом городишке — и вспоминал былое. Потому и не заметил, что за ним умиленно наблюдает высокий худой старик.
-Прекрасная работа, - сказал старик, подойдя к посетителю. — Вы, очевидно, заметили ценность коллекции картин в нашей экспозиции?
Давыдов удивился: старик обратился к нему так, будто они давным-давно знакомы и продолжают начатый чуть раньше разговор.
Но удивления своего никак не проявил, лишь насторожился по привычке.
Все же принял приглашение продолжить беседу в кабинете директора.
Эта беседа, начавшаяся весьма спокойно, шла все более горячо: собеседники часто соглашались, но еще чаще спорили, обсуждая роль искусства, сущность таланта, сравнивая мастеров кисти.
Георгий Хрисанфович потерял всякую осторожность, вот и услышал от директора:
— Уехал работник, курировавший залы искусства, а полноценной замены нет. Хотите поработать у нас в музее? Места здесь преотличные: озеро, в лесках — грибы, ягода.
Конечно, можно было отказаться и уйти, покинуть городок. Но нечто мистическое, некий перст судьбы вдруг увидел Давыдов — и принял предложение старого интеллигента.
Свои познания в живописи объяснил так:
— Еще до революции я был несколько лет репетитором у богатого помещика, тот ко мне благоволил и привил любовь к искусству, а однажды взял с собой в Европу, ходил со мной в музеи Парижа, Лондона, Рима.
— А дальше? Ваши познания весьма и весьма внушительны.
— Самообразование. Да. Книги. Альбомы. Посещение наших музеев и выставок.
Директор поверил.
Работал Давыдов старательно.
Обедал вместе со всеми, чтобы не нарушать сложившейся в этом музее традиции, и изредка вставлял словцо во время шумной застольной дискуссии о проблемах музея.
С каждым был приветлив в меру, но ни с кем не сближался. Прослыл трезвенником, скучным и странным, но типичным бобылем.
Над ним беззлобно посмеивались, особенно над его привязанностью к «Портрету неизвестной», перед которым он нередко задерживался как бы в забытьи:
— Влюбились бы вы, Георгий Хрисанфович, хоть и не в такую красивую, но в живую, — советовали Давыдову.
Комнатку снял по рекомендации одной из сотрудниц на самой окраине города, зато дешевую. С хозяйкой, молчаливой и суровой вдовой, наладил отношения почти дружественные, ибо и сам молчал, себя обслуживал самостоятельно и платил за жилье аккуратно.
Иногда неуемный страх перед возможным разоблачением и ужасами советских лагерей заставлял его купить бутылку водки, чтобы хоть как-то забыться.
После этого несколько дней он болел, зато страх ослабевал.
В один из таких вечеров, вспоминая свое детство и молодость, от чувства безысходности неожиданно для себя он горько разрыдался после очередной стопки — и вдруг хозяйка прониклась жалостью, запричитала, руками всплескивая, обняла квартиранта жарко.
Сблизились.
Но тайну свою он ей так и не выдал.
Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года все изменилось для Георгия Хрисанфовича. Радость переполняла его душу, и он с трудом скрывал это. Он был убежден в том, что германские войска быстро победят и Россия станет процветающей конституционной монархией.
Разумеется, придется отдать освободителям какую-то часть территории. Но зато...
О фашизме он знал немного, потому что ложью считал советские газетные сообщения и размышления — и не читал их.
Жарким июльским днем оккупанты вошли в город.
Среди приветствовавших был и работник музея Давыдов. Он произнес высокопарную и в то же время достаточно краткую речь на немецком языке. Благодарил за освобождение от большевистского режима, восхвалял культуру Германии и выразил надежду на процветание новой России.
Именно он поднес хлеб-соль немецкому офицеру. Тот принял дар и выдал такую же напыщенную речь на русском языке.
Георгия Хрисанфовича назначили директором музея. Старый директор уволился. Сотрудники от Давыдова отшатнулись. Зато ротенфюрер СС Вольдемар Вольф частенько стал захаживать в кабинет к нему. Они оказались выпускниками одного и того же университета. Правда, Вольф окончил его на двенадцать лет позже. Некоторые профессора, которых помнил Давыдов, уже умерли. Многие были уволены.
Причину их увольнения ротенфюрер объяснил с огромным удовлетворением:
- Университет очищен от этой заразы. Вся планета должна быть очищена от евреев.
Его собеседник похолодел: он восхищался когда-то лекциями многих из уволенных.
Насыщенные неожиданными идеями, искренними эмоциями, они нередко завершались бурными аплодисментами аудитории.
Вольф внимательно посмотрел на него, будто читая мысли. И Давыдов поспешил перевести разговор на другую тему.
Воспитанный на лучших традициях русской культуры, он любил все русское, гордился деяниями своего народа, мужеством и талантами предков, но понимал также и мог ценить зарубежное искусство, европейскую цивилизацию, ему был чужд шовинизм.
Совсем другое — ненавистные имена Троцкого, Зиновьева, Урицкого, других евреев-лидеров большевистской партии.
Да и вся эта масса евреев, вырвавшихся после революции из-за черты оседлости для активной большевистской жизни, рождала недобрые чувства в его душе.
Тем не менее, когда в городе было создано гетто, душа эта болела от бессильного сочувствия. Он отказался переселиться в квартиру врача-еврея, удачно придумав какую-то причину.
Ясным солнечным днем нестройная колонна людей из гетто прошла под охраной солдат с собаками мимо дома, где он жил, а через некоторое время со стороны старой рощи послышалась стрельба, и впервые за многие годы Давыдов перекрестился дрожащей рукой; последовала ему и хозяйка.
Разгром немецких войск под Москвой не ошеломил, казалось, Вольфа: беседы о культуре продолжались все в той же манере.
В одной из бесед ротенфюрер будто между прочим заметил, что самые ценные живописные полотна и фарфоровые изделия из местного музея будут вскоре вывезены в Германию:
- Они явно пришли оттуда — и должны быть там снова, не так ли? — сказал фашист, глядя в глаза директору страшно-ожидающе.
- Врешь, подлая тварь. Произведения искусства, подаренные некогда этому музею советской властью, не должны покинуть его залов и запасника, — подумал Давыдов.
Но вслух не произнес этих слов. И с трудом подавил в себе желание стукнуть Вольфа по голове тяжелым чернильным прибором, стоявшим на столе. И еще бить! Бить!
Через несколько дней на площади повесили шестерых партизан. Неведомая сила заставила Георгия Хрисанфовича, проходившего мимо, взглянуть на лица. В третьем слева, худом старике, узнал он бывшего директора музея. Замер тоскливо. Дома напился до одури.
Давыдов после этого потерял сон: его мучили кошмары. Угнетали тяжелые раздумья, нарастающее чувство собственной вины.
На стенах домов начали появляться листовки со сводками Совинформбюро, сообщавшими о том, что фашисты окружены под Сталинградом. На железной дороге все
чаще подрывались немецкие поезда. Люди шепотом рассказывали о казни предателей, о создании огромной партизанской армии в тылу немцев.
Но фашисты продолжали вешать на площади, Вольф по-прежнему был невозмутим, все в те же часы велись их беседы о культуре, ставшие пыткой для Давыдова.
Однажды ротенфюрер не появился — и не было его около месяца.
Из разговора двух любовавшихся музейными картинами офицеров Георгий Хрисанфович узнал, что тот был захвачен и взят с собой как пропуск двумя солдатами-антифашистами, бежавшими к партизанам.
Он почувствовал радость, весь вечер шутил дома и спал в ту ночь долго и крепко.
Листовки сообщали о завершении Сталинградской битвы и об успешном наступлении советских войск. Они приближались.
Той ночью загромыхало на востоке, грохот разбудил Давыдова.
Он не сразу понял, в чем дело: почему зимой гроза? Но тут же зашумели автомобильные моторы, надрывались в командах глотки, и он, наспех одевшись, побежал в музей.
Как он и предполагал, запасник был вскрыт, солдаты тащили оттуда экспонаты, срывали картины со стен в залах, все это наспех грузилось в автомашину.
Незнакомый офицер небрежно и в то же время довольно нервно объяснил, что музейные ценности спасают от большевистских варваров в связи с временным выравниванием линии фронта.
Георгий Хрисанфович подумал: «Господи, хоть бы наши подоспели!» Слово «наши» поразило его.
Стоял, кусая губы в бессильном гневе, вспоминал, как хлебом-солью встречал псевдоосвободителей, как верил им.
Солдат уронил картину, стал на нее сапогом. Грязным сапогом — на портрет его прапрабабки!
- Свинья! — закричал Давыдов по-русски.
-Свинья! — повторил по-немецки.
Нагнулся, схватил портрет — и тут же свирепый удар подкованного сапога обрушился на его голову. Теряя сознание, попытался разогнуться, но новый удар опрокинул его навзничь.
Падая, он ударился затылком об угол железного ящика с песком, стоявшего здесь на случай пожара.
Нарастающий грохот ворвавшихся в город советских танков заставил солдата бросить картины и побежать, испуганно озираясь.
Георгий Хрисанфович Давыдов лежал, прижимая к груди бесценное полотно, на котором кощунственно запечатлелся след грязного сапога. Из ушей и рта умирающего текла кровь.
* * *
- Искусствоведы, - продолжает свой рассказ девушка в джинсах, - считают, что этот портрет принадлежит кисти Рокотова. К сожалению, все еще остается загадкой личность изображенной художником красавицы.